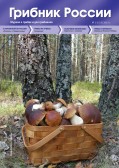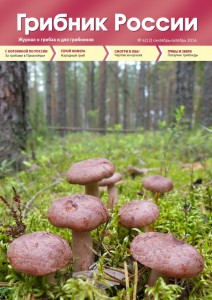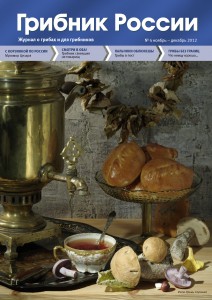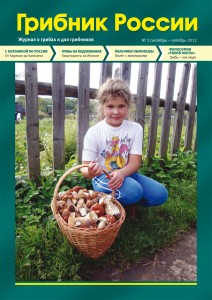3 августа 2023
В ранее не публиковавшемся интервью Александр Колкер рассказал про власть и искусство
Композитор Александр Колкер последние годы вел уединенный образ жизни и редко с кем общался. Это интервью он дал в 2011 году, но при согласовании текста разрешил публиковать его только после своей смерти. 1 августа Александра Колкера не стало. «Фонтанка» публикует диалог с автором советских лирических шлягеров и киномузыки — о его времени, коллегах и советской власти.

— Александр Наумович, о своей жизни вы написали книгу «Лифт вниз не поднимает». Она получилась очень веселой. Скажите, почему вы выбрали юмористический стиль?
— Это свойство натуры. Понимаете, я не смог бы написать эту книгу, если бы не дружил с юмором. В жизни бы не опубликовал серьезную книгу с бемолями и диезами и критикой произведений своих товарищей. В книге не столько про меня и Машу, а про тех людей, которые прошли вместе с нами по жизни и оставили глубочайший след. Это Соловьев-Седой, Товстоногов, Мравинский, поэт Ким Рыжов. Книга — про этих людей. Мы счастливы (интервью бралось при жизни Марии Пахоменко. — Прим. ред.), что были рядом с ними.
Наша дача находилась рядом с дачей Мравинского. В шесть утра мы с Машей выходили за грибами, а он уже шел на рыбалку с набором спиннингов и удочек. По вечерам мы сходились: вечер у нас на веранде, вечер — у Мравинского. Но вне зависимости от местоположения, мы выпивали, и выпивали все. Мравинский не успокаивался, пока не выпивал до последней капли все, что было в доме.
— А о музыке говорили?
— Меньше всего было разговоров на музыкальные темы. Сплошные анекдоты. Никакой музыки.
Как-то мы сидели у нас. Между мной и Товстоноговым — моя Марусечка, а Мравинский напротив. Он долго молча смотрел на нее, да так, что она стала вжиматься в стул. Вдруг он сказал: «Как у вас печально лег тут локон».
— Неужели вообще не было бесед о профессиональном?
— Понимаете, в чем дело: это всем уже обрыдло. Объясню почему.
Мравинский репетировал в Филармонии по несколько часов. В том числе дирижировал музыкой моих сверстников-композиторов, которую с лету не возьмешь. На дачу в Усть-Нарву он возвращался усталый, и ему уже было не до разговоров про то, как он развернул среднюю часть и коды.
— Но с кем-то вы говорили о музыке.
— Я уже двадцать пять лет не хожу в Союз композиторов, чтобы не обсуждать чужую музыку. Чего обсуждать, песни надо исполнять! Когда начинал, и был еще мальчишкой, ходил в песенную секцию. Ее вел корифей Георгий Носов. Но самым корифеем был Василий Павлович Соловьев-Седой. Он как-то встретил Носова на улице и сказал: «Ты живешь в мою эпоху». А с юмором у Георгия Никифоровича, надо сказать, было плохо, и он обиделся.
— Насколько правдива версия, что песня «Подмосковные вечера» Соловьева-Седого первоначально называлась «Ленинградские вечера»?
— Ничего подобного. Говорят, что некоторые певцы даже поют что-то похожее, но все это самодеятельность. Не было никаких «Ленинградских вечеров».
«Ленфильм» заказал ему песню к фильму про московскую спартакиаду. Когда Вася принес ее на студию, ему сказали: «Вас постигла великая неудача. Вы написали какую-то слюнявую, никому не нужную песню». Режиссер подтвердил, что песня не войдет в фильм.
Дальше произошло невероятное — ее запел весь мир! Эта песня подменила неофициальный гимн России — «Очи черные» (до песни Васи визитной карточкой нашей страны была кабацкая песня).
— Почему Соловьева-Седого вы называете Васей? Он ведь был вроде вас старше.
— Причем намного старше! Но мы были дружны. Я был у него перед смертью. «Вон в ящике стола лежит столько драгметалла, — сказал он. — Все бы отдал за то, чтобы еще раз сходить за грибами». Мы с ним часто ходили в лес по грибы. По десять километров могли пройти.
Были композиторы младше его по возрасту, но которых он уважал за творческую жилку, за песни. Когда он посмотрел в театре «Свадьбу Кречинского», то сказал мне «Саня», а я ему — «Вася», после чего мы выпили по бокалу. Это не панибратство, а некое взаиморасположение. Ты уважаешь человека за его труд. Это не значило, что я унижал его, называя Васей.
— Мне довелось пообщаться с Тихоном Хренниковым. Он мне про грибы и рыбалку ничего не рассказывал. А вы про великих музыкантов — грибы, водочка, рыбалка…
— Тихон тоже был нормальным человеком. Но он был членом Центрального комитета партии.
— И что? Члену ЦК нельзя было ходить за грибами?
— Так он и ходил, в панамке. Может, просто не придавал этому значения. Он был великий человек — спас от сталинских репрессий музыкантов. Ни один композитор, ни один музыковед не пострадал (речь идет о последних пяти годах жизни Сталина, когда Хренников возглавлял Союз композиторов СССР, мнения о заслуге в этом Хренникова разнятся. — Прим. ред.). Ему при жизни надо было за это поставить памятник.
— Сажать не сажали, но ведь гнобили…
— Минуточку! Гнобил кто? Человек высшего бескультурья Хрущев. Это же он, придя на выставку Эрнста Неизвестного, назвал его педерастом.
— Но потом извинился.
— Потом уже никому не надо. В этом смысле Сталин был более образованным человеком. Он не вылезал из Большого театра, и когда узнал, что Козловский не может получить машину, распорядился дать ему ее: «Козловский у нас один».
Кстати, интересная история была с машиной у Шостаковича. Он был женат несколько раз. Ему было достаточно посмотреть на стройные ноги, осанку и бюст, чтобы подойти и сказать: «Я очень прошу: станьте моей женой, у меня нет времени ухаживать за вами».
Когда его женой была музыковед Ирина, она так часто ездила на машине, что вскоре понадобилось ее поменять. Надо сказать, что все гонорары за исполнение музыки за границей Шостакович отдавал государству. Все до единого доллара, марки, франка.
Ирина сказала ему: «Дима, мы так часто ездим на машине, что ее пора поменять. Хорошо, если бы это была бы «Волга пикап»». Шостакович написал заявление в Союз композиторов: «Прошу предоставить мне возможность купить автомобиль «Волга пикап»», но написал не на имя Хренникова, а на секретаря. Тот пошел с ним к замминистра автомобилестроения. Замминистра прочитал и сказал: «Простите мою серость, но я не знаю композитора Шостаковича». И отказал. Его понять можно, он делал автомобили. Узнав об этом, Ирина сказала: «Дима, нам, наверное, придется извиниться и попросить разрешения взять немного своей валюты, чтобы купить машину».
Когда об этом узнали там (показывает пальцем наверх), то на следующий день под окнами дома, где жил Шостакович, стояла «Волга пикап», перевязанная голубой ленточкой. Вопрос был решен мгновенно. Они держались за валюту обеими руками. К тому же из советских композиторов Шостакович был самым исполняемым на Западе.
— Парадокс какой-то: при всем пренебрежительном отношении к интеллигенции материальное положение у нее было сносное.
— Не сносным, а замечательным. Оскар Фельцман, Марк Фрадкин, Эдуард Колмановский, тот же Тихон Хренников писали песни, которые подхватывались народом. Все они были богаты выше крыши, и никто их не гнобил. Разговоры о том, что кто-то кого-то гнобил, — болтовня. Гнобили тех, кто писал непонятную для народа музыку. Например, написал Мясковский симфонию. Зачем ему платить, ведь ее исполнили один раз в Филармонии? Ему и заплатили 50 рублей авторских, и все. Гнобили поэтов, которые писали о мавзолее, как об окровавленном сердце на Красной площади. А тех, кто писал песни «Я верю, друзья, караваны ракет…», — поощряли.
— Но это же стихи Войновича.
— Но музыка-то Фельцмана.
Понимаете, та эпоха была неоднозначной. Как можно было гнобить Соловьева-Седого, который приходил к председателю горисполкома Смирнову на Исаакиевскую, открывал дверь ногой и говорил: «Нужно двенадцать квартир для моих талантливых мальчиков. Даю слово, они все талантливые». И двенадцать квартир давали.
— Почему сегодня никто из ваших коллег не может прийти в администрацию так, как это делал Соловьев-Седой?
— Я задам вам встречный вопрос. Назовите мне хотя бы один балет ленинградского композитора, поставленный в последнее время. Когда Андрей Петров написал «Сотворение мира», это было событием. Он до сих пор идет.
— Но ведь если не поставлено, не значит, что не пишут.
— Если это написано талантливо, это будет востребовано. Неважно что — балет, мюзикл или опера — театры ищут их. Когда у нас поставили «Чикаго» и «Сорок второе авеню», они провалились. Это не надо нашему зрителю.
Если театр заинтересован, если он хочет поставить балет или оперу, то он пойдет просить денег и к губернатору, и в Министерство культуры, или найдет спонсора.
— Какие спонсоры помогут молодым?
— Все определяется степенью дарования. Я тоже был молодым, и писал тогда песни «Парень с Петроградской стороны» и «Карелия».
— Но ведь тогда была культура, а сейчас — шоу-бизнес.
— Знаете, если человек талантлив, и если его произведение заинтересовало театр, и директор уверен, что народ пойдет на него, то деньги найдутся.
Вот, к примеру, Леонид Десятников. Его оперу «Дети Розенталя» поставили в Большом театре. Ни Вениамина Баснера, ни Бориса Тищенко, ни Андрея Петрова в Большом не ставили. Шлагбаум последнему, кстати, поставили Родион Щедрин с Майей Плисецкой: «У вас есть Кировский театр, вот там и ставьте». Леонида Десятникова поставили, хотя когда чиновники смотрят на его сугубо еврейский нос, то у них опускаются глаза. И деньги нашлись на постановку. Более того, его сделали музруком Большого, правда, был он им недолго.
— Но то Москва, там свои песни. Почему в Петербурге сегодня нет таких авторитетных композиторов, как тот же Соловьев-Седой?
— Он открывал двери к начальству ногой еще и потому, что он всю войну писал песни.
Теперь представим, как нынешний председатель питерского Союза композиторов приходит в Смольный. Ведь надо, чтобы его еще туда пустили, выписали пропуск. И что скажет наш председатель, если его спросят: какую музыку он написал? «Недавно я закончил цикл романсов на стихи древнелаосских поэтов»?
Знаете, как ходил председатель Союза композиторов России Казенин, мой друг, с которым мы проехали с концертами всю Россию, на прием в администрацию президента? Он пришел. Сидит в кабинете дама с халдами. Он ей говорит: «Я председатель Союза композиторов России, у нас в Союзе пятьдесят региональных организаций». «Простите, — говорит дама с халдами, — как ваша фамилия?» «Казенин». «Но я не знаю такого композитора, — говорит она. — Я знаю композитора Газманова, композитора Юрия Антонова, а композитора Казенина не знаю».
— Получается, что коммунисты, несмотря на всю свою гнусность, понимали в искусстве больше, чем нынешние чиновники?
— Были и образованные коммунисты. Разве можно сказать, что Луначарский плохо разбирался в искусстве? Были и начитанные, не чета нынешним торгашам апельсинами.
— О законах шоу-бизнеса, его закулисье пишут много: и сколько кому нужно заплатить, и с кем переспать, и кому улыбаться. Скажите, в советское время было что-то похожее?
— Было, но в многократно меньшем размере.
Если, к примеру, Фельцман, Пахмутова или Фрадкин приносили песни редактору, то их брали. Потому что редактор знал: если поставит в программу «Песня года» или «Голубой огонек» какое-то [фуфло], то получит выговор.
И я так же поступал, приходил и показывал песню: «Если берете — берите. Если нет, то я забираю».
— Неужели вам ни разу не намекали заплатить?
— Клянусь, никогда в жизни, ни одной копейки не заплатил ни одному редактору.
Вот когда я написал «Гадюку» (мюзикл. — Прим. ред.), то отправил письмо министру культуры с просьбой оплатить мне работу. Она была непростая.
Идею своей «Гадюки» я вынашивал пятнадцать лет. Для музыкального спектакля там смачные персонажи, да еще и действие происходит в коммунальной квартире. Получилась опера, но в форме мюзикла. Да еще и на русском языке, и по повести советского классика Алексея Толстого.
— Заплатили?
— Ни одной копейки не дали. Сказали: «Идите вы в Союз композиторов». Откуда в Союзе деньги? Я же знаю, что он беден как церковная мышь.
Давайте кинем взор в девятнадцатый век. Из русских композиторов самый исполняемый в мире — Чайковский. Таких мелодий, такой драматургии в симфониях нет ни у кого. В девятнадцатом веке был такой музыкальный издатель Юргенсон. Он издавал не только Чайковского, но и Балакирева, и Римского-Корсакова. Он платил им деньги. Понимаете, это он им платил деньги, а не требовал с них. Потом он продавал музыку в театры, по стране.
И вот прихожу я в Минкульт. Мне сказали: «Ищите спонсора».
— Но вы еще сможете, может быть, найти, а молодые композиторы?
— Почему я найду? Но я вам скажу, что только за последние годы «Свадьба Кречинского» была поставлена в Малом театре и в Новосибирске, Магадане, Свердловске, Красноярске, Кривом Роге, Барнауле. «Труффальдино из Бергамо» в нескольких театрах — Оренбурге, Саратове, Северске, Липецке. «Гадюка», поставленная в Новосибирске, получила три «Золотых маски».
И ни разу я так и не нашел спонсора.
— Правда, что ваш отец работал в КГБ?
— Правда. Но спросите меня — кем?
— Кем?
— Бухгалтером. (Смеется.) Он одессит, и его призвали на срочную службу во внутренние органы. У него очень здорово получалось решать задачи по математике. А тогда только-только формировались институты при НКВД.
Всю войну отец проработал в блокадном Ленинграде. Мы с Марией Леонидовой тоже жили в блокаду в городе, и оба имеем самое почетное звание — «Житель блокадного Ленинграда». У нас над головами летали фрицы, выглядывали из самолетов, открывая колпаки кабин пилотов, улыбались. Я ходил вместе со взрослыми тушить зажигалки.
— Страшно было?
— Не-ет.
— Говорят, что блокадники никогда не расскажут всего ужаса, который они пережили. Это так и есть?
— А я вам не расскажу, как у нас в садике, рядом со школой, лежала женская задница, у которой было вырезано мясо. Отец Марии Леонидовны был участковым, и он видел, как сошедшая с ума женщина варила студень из своих детей. Это я вам не рассказывал.
Но были и комические случаи. Однажды отец Марии Леонидовны возвращался домой ночью. Тогда было очень опасно ходить в темное время, было много преступности, даже страшнее, чем сейчас. Он, как и мой отец, всегда ходил с пистолетом на взводе.
Шел он по Шкапина, оборачиваясь на каждый шорох. На этой улице был расположен Ленхладокомбинат. И вот, проходя мимо него, услышал, как за его спиной что-то брякнулось о землю. Он нащупал руками какой-то сверток, схватил его, и побежал домой. Там он развернул его — это был кусок сала. Видимо, кто-то хотел его украсть, и перекинул через забор. Так этот кусок сала кормил семью Пахоменко целый месяц.
— Если ваш отец работал в Большом доме, то и пайки были у них, наверное, большие?
— Их не было вообще. Однажды у них в ведомстве пала лошадь, и ее разрезали на куски. Офицеры тянули жребий — кому копыто, кому губы, кому ляжка. Но это только офицеры. Там ведь служили не только офицеры, но и те, кто арестовывал ракетчиков, которые подавали сигналы немцам, куда бросать зажигалки.
— Были и такие?
— Конечно. В нашем дворе одного такого взяли.
Уже после войны отец признался, что в тот раз он украл второй кусок. У нас в семье было трое детей.
Зато в Смольном были апельсины и шоколад. А какие обеды были в столовой Смольного! Не путайте Смольный и воинскую часть.
— Но ведь все-таки Большой дом. Может, были какие-то привилегии?
— Это была воинская часть. Какие там пайки?
— Оскар Фельцман рассказывал, что Ян Френкель подрабатывал аранжировками для композиторов из среднеазиатских республик. Вам не довелось столкнуться с таким заработком?
— Я инструментировал, в том числе и песни Френкеля. Например, «Иваново — город невест» сделал я, он попросил меня. Почему? Потому что я работал оркестровщиком в эстрадно-симфоническом оркестре Ленинградского радио. Я инструментировал музыку для Носова, Прицкера, Овчинникова, Соловьева-Седого. Платили мне шестнадцать копеек за один такт. А что такое такт? В нем может быть и четыре ноты. И все это нужно расписать для кларнета, гобоя, флейты, пяти саксофонов, четырех труб, четырех тромбонов, струнной группы. Колоссальная работа.
Я сам оркестровал свою «Свадьбу Кречинского» для симфонического оркестра. Никаких рабов не брал и никому не платил.
— Ленинград при Романове многие до сих пор вспоминают с содроганием. Известно его негативное отношение к евреям. Вас это как-то коснулось?
— А как вы думаете? Меня всегда «вырезали» из записей концертов — то «галстук не в ту сторону собьется», то «побреюсь не так», то еще что-нибудь придумают. Но «вырезали» только на ленинградском телевидении, а не в Москве. Там был Юрий Силантьев, он клал на всех, кто ему что-то говорил про меня. Ему очень нравилось, как я профессионально оформлял партитуры — там я ставил штрихи для скрипачей, показывал, где нужно смычок вверх, где вниз. Я ведь скрипач по образованию. Он любил дирижировать по моим партитурам. «Учитесь, — говорил он музыкантам. — Вот это профессионально».
Была еще одна интересная история. Наш театр оперетты поехал на гастроли в Москву с четырьмя моими спектаклями. Когда об этом узнал замминистра культуры РСФСР Флярковский, то вызвал к себе директора театра и начальника управления культуры города. «Вы кого привезли? — кричал он на них. — Вы кого? Четыре Колкера привезли… Собирайте вещи и чешите в свой Ленинград».
— Правда, что вы и ваши коллеги недолюбливали Никиту Богословского?
— Нет. Это Хренников не любил его, они всю жизнь были как кошка с собакой. После того как на очередном съезде исполнили симфонический концерт «Для смеха с оркестром» Богословского, Хренников разнес его в пух и прах.
Но, понимаете, в Москве небо выше, там всем хватает места, денег, исполнителей и оркестров.
— Говорят, он сотрудничал с КГБ.
— Он имел к нему некоторое отношение, хотя точно никто не знал. Но он полжизни прожил в Париже.
— Как вы определяете талант в музыке?
— Если я слушаю музыку и у меня мурашки по спине… Или если я умираю.
— У кого-то и от Крутого могут быть мурашки, но это ведь не значит, что он великий композитор.
— Ну да. Он же написал как бы симфоническую поэму из 24 песен.
— Не раз слышал от ваших коллег в его адрес «фи». Почему никто публично не объяснит, в чем тут дело?
— Во-первых, зачем? Во-вторых, все и так все понимают. Он же крутой. Такому разве что скажешь?
Знаете, в Москве есть три клана в шоу-бизнесе. Первый — моего друга Кобзона. Второй — Аллы Борисовны Пугачевой. И третий — Крутого. Каждый из них держится за своих.
— А на ваш вкус, у него есть хорошие песни?
— Как музыкант уверяю вас: есть.
— Можно ли сказать, что «Могучая кучка» тоже была кланом?
— Когда Мусоргский спился и умер, то его оперу «Хованщина» заканчивал Римский-Корсаков, написал последний акт. Более того, он оркестровал всю оперу. Вот такая была «Могучая кучка». Они видели, что может погибнуть гениальная опера, и закончили работу. Разве это сравнишь с нынешними кланами?
— Вы что-нибудь пишете сейчас?
— Я практически все написал. «Гадюка» — это последнее. Я закончил с писаниной.
— Совсем?
— Мне неинтересно писать. Потому что наш город превратился в отхожую яму. Придумали — культурная столица! А все уехали в Москву.
— Но есть и те, кто остался.
— Есть, конечно, но они не определяют культуру и не смогут поднять ее на тот уровень, который был при Товстоногове, Игоре Владимирове, Агамирзяне, Воробьеве.
— Вы осуждаете тех, кто уехал, или относитесь к этому с пониманием?
— Некоторым делаю ручкой и свищу вслед — очень хорошо, что уехали. Они не составляли гордости нашего города.
Город сегодня — ужас, ужас… И театры, и все остальное… Композиторы умирают один за другим. Конечно, сожалею, что уехали талантливые, но осуждать кого-то нельзя. Потому что каждый в этой жизни сам находит возможность пристроиться куда-нибудь.
— Но как же питерский патриотизм?
— Нет никакого патриотизма. Назовите мне песню нашего, питерского композитора, которую запела бы если не вся страна, а весь город. Не речовкой же «Зенита» гордиться.
Беседовал Андрей Морозов