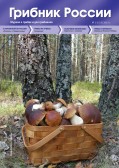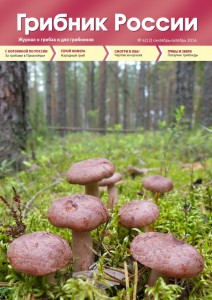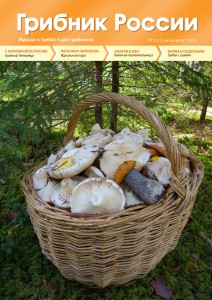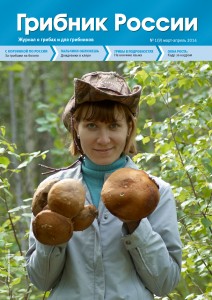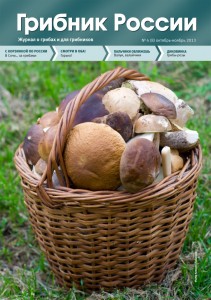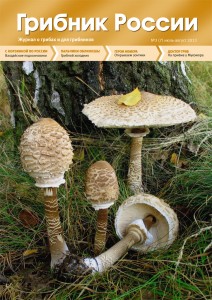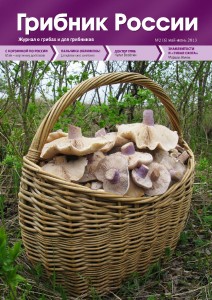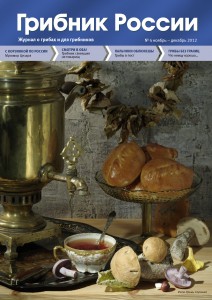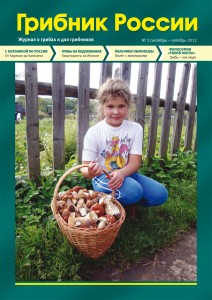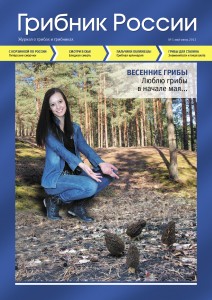20 декабря 2022
«Серёжо, пой сюды! Сяис, побайсе с народом-ат». Автор «Родины» написал текст-памятник носителям местного говора из старинного владимирского села
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кишлееве простояла сто лет и до нас не дошла — ее разрушили в 1961-м. А местный древний говор еще доживает свой век. / из семейного архива Батановых
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кишлееве простояла сто лет и до нас не дошла — ее разрушили в 1961-м. А местный древний говор еще доживает свой век. / из семейного архива Батановых
С уходом из жизни старших поколений исчезают и самобытные местные говоры. Великорусскому языку повезло. Еще в середине XIX века вышло первое издание Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля. Да, за 160 лет язык изменился, с повышением уровня образования населения народные местные говоры, в основном, нивелировались, а то и вовсе исчезли. Но пока можно услышать диалектные слова, которых нет в словаре Даля.
Прочел в «Родине» публикацию о старейшей жительнице владимирской деревни Пустой Ярославль Валентине Локаловой. А ведь это в нескольких километрах от села Кишлеево, откуда родом мои предки и где я с детства провожу много времени! В отличие от Пустого Ярославля, куда приезжают из города на лето, в Кишлееве зарегистрировано около 400 жителей, в основном, пожилых. Вот они-то и остаются носителями того владимирского говора.
Мы живем в удивительное время — можем слышать, записывать этот говор. Но и мы же станем свидетелями его исчезновения…
Немного про место. Кишлеево — старинное село в местности, которую принято называть Владимиро-Суздальским Опольем. Когда-то Кишлеево принадлежало боярам Романовым, затем было пожертвовано московскому Новоспасскому монастырю, вотчиной которого являлось до реформы Екатерины II по изъятию церковных владений.
О происхождении названия села есть несколько версий. От имени хана Кишлея. От слова «кишлак», что означает «селение» у некоторых восточных народов. От слова «киш» — так в финно-угорских языках называли смолу. Правда, первозданные хвойные леса для Ополья нехарактерны…
Зато характерен для владимирского наречия окающий говор — это еще Даль отмечал. Буква «а» слышится только там, где на нее падает ударение. В Кишлееве можно услышать «стокан» вместо «стакан». И в тоже время, «о» иногда превращается в «а». Например: «росчасывать» вместо «расчёсывать». А в слове «загородка» ударение со второго «о» переносится на первое «а».
Владимир Даль описывает владимирское наречие по уездам: владимирскому, суздальскому, ковровскому. Поскольку Кишлеево — местные говорят «Кишлево» — входило во Владимирский уезд и расположено рядом с Суздальским, можно назвать местный говор Владимиро-Суздальским.
Но было в говоре и самобытное, что его отличало от говора соседних деревень. На базарах кишлеевских поддразнивали: «В Кишлеве-те, на церкви-ти, на кресте-те, галок-те!» Впрочем, придаточную указательную частицу «-то» изменяют по родам, числам и падежам до сих пор. А иногда она превращается из «-то» — в «-от».
Например: «молоко-то», «масло-то». Или фразы. «Сумку-ту взяла». «Кака вода-та холодна». А вот примеры с «-от»: «колодец-ат (произносится как «колодецат») хороший» или «конь-ат (произносится как «конят») добрый».
Еще в средине 1990-х услышал замечательный диалог мужа и жены. Они покупали ему летнюю обувь. Он: «Померить баретки-те?» Она: «Примерь. Чай, нога-та при теэ (тебе)».
Распространено в Кишлееве ёканье: «сёло», «смётана», «ёво» (его), «чёво», «безобразиё», «чахлятьё» (то есть больной человек), «вишеньё» (вишня), «пёро», «жёлудок», «испёкла»… Престольный праздник в Кишлееве — и тот «Успеньё» Пресвятой Богородицы.
Есть и яконье: «беритя», «идитя», «сяис» (садись).
Раньше говорили «мнук» вместо «внук», «сварьба» вместо «свадьба». «Тутоди» — то есть «тут», «тамади» — значит «там», «нетути» — то есть «нет», «топериче» или «топере» — значит «теперь».

Автор текста с отцом — Александром Батановым — в Кишлееве. 1954 год. Фото: из семейного архива Батановых»Прихои ужо»
Еще в Кишлееве некоторые слова — как будто из них выпали отдельные фрагменты или они заменены другими буквами: «хоцца» вместо «хочется», «баушка» вместо «бабушка», «теэ» вместо «тебе», «рази» вместо «разве», «гляи» вместо «гляди», «пои («пой» вместо «поди». Вот и получается: «Пой-ка сюда! Гляи-ко, каких пирогов испёкла!»
вместо «поди». Вот и получается: «Пой-ка сюда! Гляи-ко, каких пирогов испёкла!»
Ну, и дальше: не «кость», а «кось», не «пасть», а «пась», не «страсть», а «стрась». Да и Кишлеево, повторюсь, здесь — «Кишлево».
И с фамилиями с двойными буквами то же самое: «Таневы» вместо «Танеевы», «Михевы» вместо «Михеевы»…
А вот кишлеевские или по-местному — «кишлевски» — архаизмы. «Третьёвось» — то есть позавчера. «Инда» — «даже». «Летась» — прошлым летом. «Баить» — разговаривать. «Кануть» — налить. «Кань маненько» — значит, «налей немножко».
Если за молоком приходить вечером, то хозяйка в годах обязательно скажет: «Прихои ужо». То есть, когда дела завершатся, корову подоят.
К архаизмам также можно отнести сохранение элементов звательного падежа при обращении только по имени, которое оканчивается на «а» или «я».
«СерёжО, пой сюды! Сяис. Побайсе с народом-ат». Или — «Женё!» вместо «Женя!»; «Танё!» вместо «Таня!».
И зовут здесь не «Бабушка!», а «Баушко!».»Баушко, испечи куженек!»
Как отмечал Даль, любят во Владимире творительный падеж: «лежмя», «стоймя». Названия грибов употребляют свои: «чёлыш» — подберезовик; «красик» — подосиновик; «петушки» — лисички.
«Куженьки» — это уже вид ватрушек. «Кокуры» — выпечка из пресного теста. При этом «кокурошек» — это еловая шишка. Говорят так: «Надо принесть кокурошков из леса на самовар». «Шашечек» — кусочек. Например: «Отрежь шашечек колбасы». «Теплинка» — костер. «Калишки» — короткая резиновая обувь. «Мост» — деревянный настил в сенях.
Неопределенная форма глагола на «-чь» преобразуется в «-чи». «Печь» — «печи», «стеречь» — «стеречи». Например: «Кто-то в саду обрывает вишеньё. Надо стеречи».
В повелительном наклонении слово испеки тоже превращается в «испечи». В Кишлееве скажут: «Баушко, испечи куженек!»
Вместо «я хочу» или «мне хочется», старожилы говорят «мне похотелось» или просто «хоцца». Вместо «я соскучился» — «мне соскучилось».
Глаголы «делать», «уделывать» (то есть обустраивать) спрягаются особенно: ты «делашь», он «делат», мы «делам», вы «делате», они «делат».
Вот слова, которые можно услышать в Кишлееве и то, что они означают.
«Пенчить» — едва что-то делать, доживать. «Сдобляться» — собираться, готовиться. «Жилиблиться» — трястись, колебаться. «Хомутаться» — бродить, гулять. «Ухетать» — утеплить, залатать. «Хмыстать» — изнашивать, трепать, носиться туда, сюда. «Жушширить» — есть. «Огоревать» — устроить какое-либо дело, приложив усилие. «Логозиться» — спорить, вздорить. «Изваракаться» — испачкаться. «Наблашниться» — наловчиться. «Дербулызнуть» — ударить по нижней части лица (напоминание о кулачных боях). «Отудобеть» — выздороветь.»Нетрог ходит, чай не потопчет!»
Здесь употребляется союз «нись» в значении «или»: «В каким году это было? Нись в тридцатым, нись в тридцать первым».
Частица «нетрог» — в значении частицы «пусть»: «Гляи-ко, кот по грядке ходит!» — «Нетрог ходит, чай не потопчет!»

Александр Батанов из села Кишлеево — выпускник Ставровской школы второй ступени. 1929 год. Фото: из семейного архива Батановых
В начале 1990-х к моему отцу 1910 года рождения подошли две девушки-студентки, которые собирали диалектные слова о погоде. Кто-то их направил именно к нему. После дождя выглянуло солнце и отец сказал «розъярышшилось». А в значении «ненастье» я неоднократно слышал от него слово «голмяно».
Надо сказать и о певучести местного говора. Пожилая учительница рассказывала мне, как полвека назад у нее на уроке литературы присутствовала инспектор из областного отдела народного образования. Ученики читали стихи Некрасова, а после урока инспектор, прослезившись, сказала: «Александра Григорьевна, ничего подобного не слышала. Получила огромное удовольствие. У вас ученики не говорят — поют! Ощущала себя современницей великого поэта».
Да, моими «информаторами» по говору были и есть, в основном, женщины. Это естественно. Именно женщины издавна на Руси были хранительницами традиций. Ведь мужчины уходили на заработки или их забирали в солдаты. Их речь, говор были подвержены московскому влиянию.
С начала XIX века ватаги кишлеевцев (кишляков, как еще их называли) с топорами за поясами ходили в Москву плотничать. Также нанимались пастухами в Московскую губернию вплоть до начала коллективизации. Например, в окрестностях села Богослово (прежде Богословское), ныне Ногинского района. В отличии от плотников с топорами за поясами, пастухи ходили со знаменитыми владимирскими рожками, мастерски играя на них, зазывали скотину на пастбище.
В 1930-х годах в кишлеевском колхозе даже был хор рожечников. Я в детстве, в начале 1960-х, летом просыпался, когда рано утром выгоняли скотину, под игру пастуха на рожке. Увы, сейчас не то, чтобы рожок можно было услышать, коров-то, редко можно увидеть.
А вот кишлеевские — «кишлевски» — слова еще можно услышать. Конечно, их намного больше, чем приведено здесь. Но мне было важно зафиксировать хотя бы часть местного диалекта, который, благодаря моим предкам, выходцам из Кишлеева, стал родным и для меня, москвича.